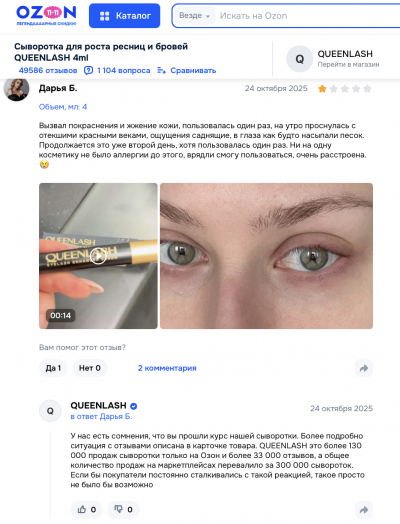"Пейзаж после битвы" польского Шаламова
- 13.08.2025 02:15
"Польский Шаламов"
Был такой самобытный польский писатель Тадеуш Боровский — экс-узник Аушвица, не сумевший пережить постлагерный синдром и покончивший с собой в возрасте 28 лет. В современной право-консервативной Польше из-за симпатий к левым и ПНР (Польской Народной Республике) к нему несколько двоякое отношение, но литературоведы в один голос величают его не иначе как "польским Шаламовым" (и вполне заслуженно!). В первую очередь, конечно, из-за сборников рассказов, через которые он подобно нашему Варламу Тихоновичу осмысливал лагерный опыт европейского поколения. Если вы ни разу не читали прозы Боровского — горячо рекомендую, ну а в данной статье хочу остановиться лишь на одном его автобиографическом рассказе под названием "Битва под Грюнвальдом" (в некоторых переводах — "Грюнвальдская битва").
Дело в том, что в этом рассказе Боровский затрагивает (и даже полноценно исследует) очень непопулярную и малоупоминаемую в Европе тему так называемых "лагерей ДиПи" (далее "DP" — от английского словосочетания "перемещенные лица"), куда сразу после Второй мировой англо-американцы загнали сотни тысяч "бесхозных" европейцев и евреев (как правило, из Восточной Европы). У нас, например, каких только страшилок не пишут о "фильтрационных лагерях" (при всей своей жесткости отчего-то профукавших тысячи военных преступников, которых потом долавливали до 90-х гг.), а вот о союзных лагерях DP почти никто никогда не рассказывает (держу пари, что вы о них тоже ничего не знаете).
Сам Боровский после Аушвица и Дахау попал в подобное место, хорошо описав будни "освобождённого" человека. В рассказе с саркастическим названием "Битва под Грюнвальдом" он вывел самого себя в образе поэта Тадеуша...
Написанный в саркастично-пессимистическом и неповторимо-чернушном боровском стиле какофонии, рассказ "Битва под Грюнвальдом" очень ярко освещает глубину человеческого (и, в первую очередь, европейского) падения и расчеловечевания после Второй мировой войны. Автор констатирует избитую истину о "невозможности жить и творить после Аушвица".
Ввиду того, что произведение Боровского было экранизировано польским режиссером Анджеем Вайдой в 1970 году (фильм называется "Пейзаж после битвы", роль Тадеуша сыграл актер Даниэль Ольбрыхский), я буду в данной статье опираться одновременно и на фильм, и на рассказ.
Зачем?
Ну, во-первых, фильм снят достаточно близко к текстовому оригиналу (хотя там есть и вкрапления из других его произведений). А во-вторых, в отрыве от произведения Боровского он абсолютно сумбурен и малопонятен. Вот, например, наткнетесь вы случайно на этот фильм в интернете, плюнете от досады, не поняв его, и так никогда и не узнаете, что, на самом деле, это одна из величайших картин европейского кино 70-х гг. Конечно, в первую очередь, в интеллектуальном плане. Если вы любите поп-корновые экшн-фильмы со спецэффектами и зубодробительными героями, вам, конечно, мимо...
Ну что, начнем разбор?
"Каждому своё"
Экранизация рассказа Боровского начинается с потрясающей сцены, которой не было в тексте. Более того, без всякого преувеличения заявляю, что это одна из самых жизнеутверждающих сцен в истории мирового кино (по крайней мере, из фильмов, посвященных концлагерям). С первых же секунд нам показывают перестрелку и американские танки на заснеженной поляне у некоего концлагеря, в котором мы визуально узнаем Аушвиц. На самом деле, по сюжету, это не Освенцим, а один из концлагерей на Западе, что-то типа Берген-Бельзена, Бухенвальда или Нацвейлера (конкретика здесь не важна). Просто Вайда за неимением более подходящих декораций выбрал для съемок полузаброшенный тогда Освенцим (фильм снимался в 1968-1969 гг), чем, в общем-то, не прогадал. Атмосфера получилась подходящей.
И вот, под раскаты гениального Вивальди радостные узники в полосатых робах бегут к ограде из колючей проволоке. Убедившись, что тока уже нет, они рвут ее ломами и палками и вырываются на заснеженное поле, где начинают брататься со своими американскими освободителями. Тут же мы видим, что на радостях обнимаются между собой и непримиримые политические противники из узников (их характеры мы узнаём позже): коммунисты с правыми и евреями — словом, радость несусветная, искренняя и объединяющая.
Затем начинается вакханалия (все так же под Вивальди). Кто-то гоняет бывшего капо, который словно испуганный боров с выпученными глазами бегает по "запретной зоне" концлагеря. Кто-то сдуру наедается до рвоты американской тушёнки. Ну а герой Ольбрыхского, как истинный очкарик-интеллигент, пытается спасти в огне какие-то книги. У него их уже целая охапка. Мы понимаем, что за годы своего заключения он дико соскучился за Словом...
Далее узников разных западных стран американцы вывозят на грузовиках под бурное ликование с нацфлагами, очевидно, в сторону их Родины. Остающиеся в "свободном" концлагере поляки с завистью машут им на прощание ручками, ожидая своей очереди.
В одной из сцен к ним в барак приходит весьма наивный американский офицер с переводчиком и толкает речь. Он объясняет, что они почти свободные люди, а значит должны заново учиться жить по мирным законам. Он обещает, что скоро и они смогут покинуть это место и вернуться домой. Ну а пока, дескать, наберитесь терпения...
И когда он уходит, мы видим, что за спинами узников все это время был спрятан схваченный боров-капо с кляпом во рту. Как только американец исчезает из поля зрения, толпа узников под все под того же Вивальди вывалакивает его из барака и с азартом затаптывает насмерть в грязь...
Герой Ольбрыхского поэт Тадеуш (а это, напомню, прототип самого Боровского) не участвует во всем этом, а лишь равнодушно смотрит на торчащую из грязи руку мертвого капо. У него все та же охапка книг. Но его интеллигентную душу ничего не трогает...
Закадровый голос объясняет, что проходили недели и месяцы, а "их" все никак не отпускали. "Освободители" боялись, чтобы они не злоупотребили своей свободой. Им, побывавшим в аду и носившим отныне его в себе, нельзя было сразу на свободу. Нужен промежуточный карантин в виде чистилища.
Поэтому вскоре "освобожденных" перевели в бывшие эсэсовские казармы, где американцы наспех организовали один из лагерей DP (то есть лагерь для перемещенных лиц). Именно отсюда и начинается рассказ Боровского. И именно в таком лагере проходит все его действо...
"Униженные и оскорбленные"
Первое, что удивляет — они все так же узники. Война закончилась уже несколько месяцев назад, а бывшие жертвы немецких концлагерей живут в проголодь и под охранной американского конвоя, не имея возможности покинуть лагерь DP. Да, нет террора, рабского труда и страха смерти — главных спутников нацистских концлагерей, — но их всё так же заставляю маршировать строем на плацу и распевать при всём этом песенки (правда уже не в полосатых робах). Столь странное "освобождение" вкупе с постоянным чувством голода усугубляют и без того тяжелое психоэмоциональное состояние бывших польских концлагерников. Наружу вылезают их самые худшие пороки: грубость, эгоистичность, цинизм и холодность.
В свободное время они бесконечно спорят друг с другом о политике, еде и распределении продуктов, рассказывают жуткие истории из пережитого в концлагерях и часто ссорятся. Достаточно сказать, что главными героями среди прочих являются пламенный коммунист-сталинист и ярый сторонник Пилсудского и польского "правительства в изгнании" — "пан Хорунжий". То есть, это как кошка с собакой в одной клетке. Да, при освобождении на эмоциях они еще обнимались, смеялись и братались, но сейчас уже на ножах.
Иногда скуки ради они разыгрывают друг друга. Например, в одной из сцен к Тадеушу-Ольбрыхскому со спины подкрадывается солагерник и во все горло кричит по-немецки: "ХАЛЬТ!!!". Ну а тот, стоя у забора и не оборачиваясь, в ужасе вскидывает на автомате руки вверх, очевидно, считая, что забрел на "запретную зону". На лбу у него выступает испарина. Впрочем, спохватившись, что он уже в американском, а не немецком лагере герой Ольбрыхского немножко разозлился. Вышло действительно смешно...
Собственно, один из главных вопросов, которым задается Боровский в своем рассказе (а Вайда в фильме), насколько сильно изменила европейцев великая война? Являются ли эти изменения необратимыми и изменятся ли люди после исчезновения гитлеровских концлагерей?
И ответ польского писателя лаконичен и суров — уже не изменятся никак. Поменяется лишь пейзаж (после битвы), декорации, но не люди. Проиграв войну физически, Гитлер победил ментально. Так же как и наши лагерные авторы (тот же Шаламов), Боровский с горечью констатирует, что человек — слабое и морально неустойчивое существо. Он способен адаптироваться даже к самым бесчеловечным условиям и переступить границы любого зла. Писатель приходит к выводу, что после Освенцима и всех ужасов Второй мировой мир уже никогда не будет прежним. Проект "Человек" исчерпал себя, так и не развившись. Режиссер Вайда в одном из интервью так охарактеризовал лейтмотив фильма "Пейзаж после битвы":
Оказавшись в странной промежуточной реальности между свободой и неволей, некоторые герои рассказа "Битва под Грюнвальдом" всеми силами стремятся "оклиматизироваться" и вернуться к нормальной жизни. Но окружение лагеря DP, где подобно нацистскому концлагерю царят цинизм и закон сильнейшего, мало этому способствует. Мысли часто только лишь об еде. Тут не до высокого. Но вскоре у главного героя Тадеуша появляется спасительная ниточка: в лагерь с новым пополнением прибывает молодая красивая девушка Нина — еврейка из Польши, освобожденная Красной армией из гетто.
Из рассказа девушки становится понятно, что ее мать погибла в Треблинке, а она сама сбежала от парня-коммуниста. Будучи антисемитом, тот не знал, что она еврейка. Нина написала ему об этом в письме и не дожидаясь ответа рванула в Бельгию, мечтая поступить в западноевропейский университет. Но без документов она была схвачена "освободителями" в Германии и направлена в американский лагерь DP. Теперь главный страх девушки в том, что ее против воли депортируют в Палестину, хотя она не чувствует никакой связи с еврейством.
Подружившись в лагере с Тадеушем, Нина стала уговаривать его бежать в Бельгию. Но ей удалось лишь склонить того к рискованной прогулке в близлежащем леске. Рискованной, потому что выбираться из лагеря нужно было через охраняемый американской охраной забор. Но Тадеуш больше охраны боится... свободы. Он абсолютно атрофировался и отвык от нее.
Выбравшись через тайный лаз в заборе, они отправились в прекрасный осенний лес (это уже осень 1945), но прогулка разочаровывает Нину. Угловатый и вмиг расстерявшийся Тадеуш каждую минуту талдычит о лагере, напоминая полоумного и неотесанного дикаря. Например, когда к ним подошел "стрельнуть" сигаретку пожилой немец с тростью и в военной кепи, Тадеуш со словами — "вслушайся в этот язык Гёте" — вырвал у него из рук трость и зачем-то стал душить палкой Нину...
— Успокойся, ведь это же просто старый истощенный человек!
— А это палка старого истощенного человека, знаешь что можно сделать такой палкой? — закричал в ответ Тадеуш, сдавливая шею Нины (очевидно, у него какое-то травматическое лагерное воспоминание с немецкой тростью).
После этой странной прогулки они возвращаются в лагерь, но при пересечении забора Нину спросонья убивает американский часовой. Равнодушный Тадеуш, поглазев на тело девушки, убирает кирпич из-под ее головы (как сказано в рассказе — "чтобы было удобно") и без всяких эмоций плетется в лагерь. Все его мысли вокруг оставленных там книг да положенной порции баланды ("а в тюрьме наверное макароны"). На вопрос подъехавшего американского большого начальника о том, что случилось, он равнодушно бросает не оборачиваясь: "Гитлеровцы пять лет стреляли в нас, теперь вот и вы".
Финал рассказа и его экранизации немножко расходятся...
В рассказе все беспросветно черно. Вернувшись в барак-казарму, Тадеуш узнает, что она разграблена поляками, переведенными в его отсутствии в другой лагерь DP. Все его книги при этом украдены. Один из знакомых спрашивает его про Нину, но узнав, что она убита, "сожалеет" об этом, добавляя, что для ее соблазнения у него была припасена еда. Вдвоем они отправляются на давно репетируемое в лагере театральное представление под названием "Грюнвальдская битва". Рассказ завершается символической сценой сжигания чучела эсэсовца на спектакле. И в этом вся саркастическая суть произведения. Боровский как бы показывает степень обмельчания поляков. Это уже не те гордые и благородные ляхи, когда-то сломавшие хребет Тевтонскому ордену. Теперь это мелкие воровитые обыватели без чести и совести. Сжечь чучело немца в вонючей казарме СС — вся их "Грюнвальдская битва" и "победа".
В фильме Анджея Вайды финал более жизнеутверждающий. Режиссер не без оптимизма оставляет лазейку Тадеушу...
Спустя некоторое время после возвращения в лагерь тот осознает значимость потери и решает ещё раз посмотреть на мертвую Нину. На ту единственную, что извлекла его из отупляющего безразличия и из равнодушия. Оставшись с ней наедине в местном морге, он неожиданно начинает горько рыдать и... прозревает. Впервые через призму тотальной эмоциональной деградации, развившейся от видов сотен тысяч безымянных жертв Аушвица, Тадеуш осознает ценность отдельно взятой человеческой жизни, ее неповторимость и незаменимость. Он как бы заново перерождается.
Собрав жалкие пожитки он идет на КПП лагеря и силой взгляда заставляет американца поднять шлагбаум и пропустить его. В вагоне товарняка Тадеуш возвращается в социалистическую Польшу...
О жизни в лагерях DP
Сегодня фильм "Пейзаж после битвы" не часто увидишь в Европе. Поляки его не любят из-за очернения роли американских освободителей (а также концовки — ведь уехать по современной либеральной логике Тадеуш должен был не в "людоедский" ПНР, а на Запад). Ну а западные европейцы с полностью атрофированным современностью мозгом просто не понимают его (даже с "пояснительной бригадой"). Да и тема англо-американских лагерей DP, последние из которых были закрыты аж в середине 50-х гг., там напрочь позабыта.
А ведь тема, на самом деле, интересная и малоисследованная. Как вы увидели на примере того же Боровского, в свой первый период существования (где-то с 1945 по 1947 гг.) подобные места мало чем отличались от концлагерей. В докладе представителя США по делам беженцев Эрла Харрисона от 24 августа 1945 года отмечалось, что:
Особо выделил Харрисон обращение с евреями, пережившими Холокост. Тогда еще этого слова не знали, но сам факт подобного очень резанул глаз американскому представителю. В частности, он писал в том докладе:
Комментарии, как говорится, излишни...
Справедливости ради, союзники затеяли все это не от хорошей жизни. В первые послевоенные месяцы освобождаемые концлагерники, остарбайтеры и массы людей без гражданства нередко сбивались в банды и жестко терроризировали целые европейские местности, грабя и убивая мирное население. Особенно страдали немцы, которые считались тогда проклятыми и попадали под раздачу всех. Вот почему американцы и англичане плюнули и решили взять всех восточноевропейцев под жесткую охрану. При этом встречались и курьезные случаи. Например, в одном из лагерей DP охрану по просьбе американцев несли бывшие немецкие полицейские, что привело к небывалому бунту, усмирять который пришлось силой оружия. В общем, повторюсь, тема интересная, обширная и малоисследованная.
Правда, далеко не все лагеря DP были закрытыми. Добрая половина из них вообще никак не охранялась. Да и в закрытых лагерях режим с годами ослабевал. А к концу 1940-х охраняемых учреждений практически не осталось.
Но все равно остается некий осадочек. Ведь, повторюсь, про "спецлагеря" в советской зоне оккупации, равно как и про фильтрационные лагеря известно почти все (и часто весьма преувеличено). А западные "аналоги" полностью в тени. Понятно, что чужое "грязное белье" выворачивать всегда приятнее, чем свое. Но должен же быть хоть какой-то предел?