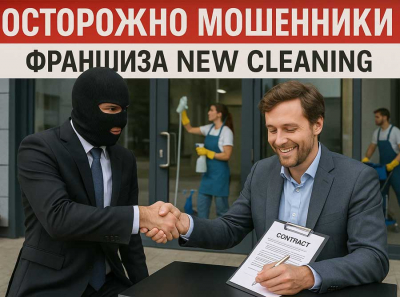Черные зэки против красных
- 19.09.2024 22:14
Неизвестные подробности "сучьей войны"
Для уголовников со стажем лагерь (тюрьма, зона) всегда был вторым домом. А для «правильных воров» («честняков»), которым по понятиям не должно иметь своего угла, и вовсе первым. После Великой Отечественной войны в лагеря потянулись блатари-фронтовики. Они решили подправить воровские законы в свою пользу. Попытка захода «в чужой монастырь со своим уставом» обернулась войной.
…И теперь в окопе сером, длинном, к сердцу прижимая автомат, Вспоминает о своей любимой Бывший урка, Родины солдат…
Эти песенные строчки — пример редкого исключения из общего правила. Классический уголовный песенный фольклор обходил стороной тему блатарей-фронтовиков. Ведь об изменниках не слагают песен. А для представителей уголовного мира зэки, обменявшие свои «срока» на «передовую», именно таковыми и считались. Называли их коротко — суки. Нехороший термин, но из песни слова не выкинешь.
Кстати, слово это — не изобретение советских времен и уходит корнями в ХIХ век. В записках каторжанина Петра Якубовича «В мире отверженных» (1896) встречается следующее наблюдение: «Есть только два бранных слова в арестантском словаре, нередко бывающее причиной драк и даже убийства в тюрьмах: одно из них (сука) обозначает шпиона, другое, неудобно произносимое, — мужчину, который берет на себя роль женщины».
Помимо значения «шпион» (стукач, осведомитель), суками на жаргоне именовали сотрудников тюремных учреждений. А в широком смысле сука — это уголовник, изменивший уголовному братству с государством. Потому-то большинство профессиональных зэков презирало своих собратьев, «вставших под ружье» в лихую для страны годину.
У отступников имелись свои резоны пополнять ряды штрафных подразделений и маршевых рот. Во‑первых, многие зэки уходили на войну по велению сердца. Отечество в опасности и… шли бы вы со своими воровскими законами! Тем более что в лагерях было немало случайно туда «загремевших».
Во‑вторых, в первые годы войны, когда страна затянула пояса везде и во всем, выживать в лагерях было особенно трудно. Все для фронта, все для победы. Продолжительность рабочего дня и нормы выработки увеличились, а пайки, напротив, сокращались. Зато на войне, как известно, обед по распорядку.
В‑третьих, часть уголовных «перевертышей» рассчитывала при первой возможности дезертировать. И те, кому это удавалось, возвращались в тылу к привычному ремеслу.
В‑четвертых, штрафник, получивший ранение, считался отбывшим срок наказания. И его переводили в обычную войсковую часть. В отдельных случаях приказ так и звучал: «Тот, кто выживет в бою, — свободен».
Был еще один резон, о котором позднее рассказывал исследователь субкультуры уголовного мира Александр Сидоров: «С 1943 года многие в воровском мире почувствовали запах легкой добычи и желали принять участие в ее дележе; впереди лежала богатая Европа — прежде всего Германия, куда можно было войти победителем, с оружием в руках и с “праведным гневом”. Так что на фронт шли уже не столько спасаясь от голодной смерти, сколько в расчете на легкую добычу и жиганский фарт».
Мотиваций много. А общий итог таков: за годы войны исправительно-трудовые учреждения передали в действующую армию около миллиона человек. Многие из них заслужили и государственные награды, и государственную реабилитацию, после чего достойно вернулись в мирную жизнь. Но немало сыскалось и тех, кто, пройдя «и Крым, и Рым», не пожелал горбатиться на пользу и нужды государства. Ну не видели эти люди для себя другой жизни, кроме криминала! И вскоре в лагеря потянулись новые этапы. Составленные из прошедших школу войны, привычных к убийству уголовников. Про таких старые уркаганы говорили: «Ему человечка зарезать — что высморкаться».
Фронтовики возвращались «домой». Да только их здесь не ждали.
«Ты был на войне? Ты взял в руки винтовку? Значит, ты — сука, самая настоящая сука и подлежишь наказанию по “закону”. К тому же ты — трус! У тебя не хватило силы воли отказаться от маршевой роты — “взять срок” или даже умереть, но не брать в руки винтовку!» (Варлам Шаламов, «Колымские рассказы»)
Такими «предъявами» встретил блатарей-фронтовиков лагерь. А ведь среди вновь прибывающих имелось немало некогда уважаемых воров. Рассчитывавших, за былые уголовные заслуги, на понимание со стороны «в тылу отсидевшихся».
Понимания не случилось. По лагерям прошли воровские сходки, где решался «вопрос о вояках». Постановили: военщина не имеет права на воровские привилегии. Формально это преподносилось в красивой обертке защиты чистоты воровского закона. На деле же скрывалось нежелание множить лагерную элиту. Времена по-прежнему стояли голодные, а администрация по-прежнему увеличивала нормы выработки и «гнала план». А тут еще после амнистии 1945 года на свободу вышло более 300 тысяч «бытовиков» — стране требовались мужские руки для восстановления разрушенного войной народного хозяйства. А кто заполнит образовавшуюся пустоту? Кто вместо амнистированных продолжит «пилять лес»?
Вот пусть вояки на свое государство и пашут, рассудили «честняки». Ага, щас! — отозвались вояки.
«— Ты ведь уже не блатной. Ты никто! Живи себе тихо в сторонке. Тебе же лучше будет!
— Тихо? В сторонке? Ну, нет. Нема дурных, как у нас в Ростове гутарят… Вы, значит, аристократы, а я должен пахать, в землю рогами упираться? Жидкие щи с работягами хлебать? Нет, нема дурных! Я сам хочу — как вы. У вас какая жизнь? Удобная…» (Михаил Демин, «Блатной»)
Поняв, что старого закона не изменить, вояки решили принять закон новый. Из которого изъяли те правила, что ущемляли претензии военщины на власть и низводили воров‑фронтовиков до роли простых работяг. Если верить Шаламову, новый закон был объявлен на Ванинской пересылке в 1948 году.
И понеслась. Нашла коса на камень.
Антагонизм блатарей старой и новой формации показан в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...». В одном из эпизодов главарь банды Барон в припадке гнева выговаривает вояке Крюку: «Я в законе, а ты падаль, мародер, от тебя трупами смердит!»
Одним из главных постулатов нового закона стало добро на сотрудничество с администрацией. Воякам требовался союзник (в лагерях они составляли меньшинство), и тогда они обратились к властям с предложением навести порядок в зонах.
К предложению прислушались. Хотя до поры сложившаяся воровская система более-менее устраивала лагерные власти. Да, профессиональные воры не работали, но при этом имели достаточно авторитета, чтобы держать жизнь в зоне «в ежовых рукавицах». Но теперь администрация решила сделать ставку на идеологически близкий контингент. И хотя было очевидно, что ломка старого всегда сопровождается кровью, власть рассудила: хуже не станет. В конце концов чем больше зэков погибнет с обеих сторон, тем лучше. Так вояки получили негласное благословение на крестовый поход против воров.
Писатель Ахто Леви в автобиографическом романе «Мор» объяснял внутренние причины сучьей войны: «Не физическая смерть воров важна для сук — им важно моральное их падение, духовное поражение; сукам необходимо “согнуть” воров, заставить отказаться от воровского закона; сукам выгоднее, если воры предадут свой закон так же, как делали они сами, и станут тогда с ними, с суками, на одном уровне…»
Сучья война стала своего рода отечественным аналогом средневековой войны Алой и Белой Роз. Вот только велась она без соблюдения каких-либо «джентльменских» правил. Причем велась не только в пределах, ограниченных периметром забора и «колючки». Геолог Сергей Потапов, в 1954 году проезжавший на вахту через Якутск, вспоминал: «Помню, как народ на вокзале вдруг резко притих. В воздухе повисло какое-то тревожное ожидание. Потом я увидел, как по перрону идет толпа. Люди рядом стали перешептываться: “Воры”. Люди шли вдоль полотна, выбирали кого-нибудь из толпы, поднимали голову, смотрели. Видно, кого-то искали. Уже потом я узнал, что здесь вовсю идет война старых и новых воров».
Для насильственного перехода в новый воровской закон был изобретен особый обряд — целование ножа («гнуловка»). Сделавший это терял права в воровском мире и навсегда становился сукой. «Всех, кто отказывался целовать нож, убивали. Каждую ночь к запертым снаружи дверям пересыльных бараков подтаскивали новых убитых. Эти люди были не просто убиты. На всех трупах “расписывались” ножами все их бывшие товарищи, поцеловавшие нож. Блатарей не убивали просто. Перед смертью их “трюмили”, то есть топтали ногами, били, всячески уродовали. И только потом — убивали». (Варлам Шаламов)
В ответ воры объявили всеобщую «мобилизацию». Блатной мир вооружался: над изготовлением ножей и пик тайком трудились едва ли не все лагерные кузницы и слесарные мастерские. Отныне вояки и воры, попадая в один этап, с ходу хватались за «железо». Под горячую руку резали всех подряд, включая зэков, не имевших отношения ни к старой, ни к новой масти. Как вспоминал один из очевидцев тех событий: «До сих пор помню состояние бессилия, которое испытывал, когда вечером после работы лагерную тишину вдруг разрывал истошный крик и очередная жертва беспредела валилась на землю с распоротым животом».
Сучья война велась с такой жестокостью и приобрела такой масштаб, что лагерное начальство схватилось за голову. К тому же время показало, что вояки зачастую оказывались и наглее, и подлее воров. По новому закону блатарям разрешалось работать старостами, нарядчиками, бригадирами, хозобслугой. И вояки, пользуясь поначалу поддержкой администраций, беспредельничали не только в отношении воров, но и «мирных» зэков. «Они верно служили лагерному начальству, работали нарядчиками, комендантами, буграми (бригадирами), спиногрызами (помощниками бригадиров). Зверски издевались над простыми работягами, обирали их до крошки, раздевали до нитки. Суки были не только стукачами, по приказам лагерного начальства они убивали кого угодно…» (Анатолий Жигулин, «Черные камни»)
Неудивительно, что до поры «нейтральный» арестантский мир, выбирая из двух зол, начал склоняться на сторону «честняков».
Чтобы остановить граничащий с террором лагерный беспредел, власти стали создавать отдельные зоны для каждой воровской масти. И если на этапе заключенные старались тщательно скрывать свою принадлежность, то перед воротами зоны их сажали на корточки с поднятыми над головой руками. Если это оказывалась воровская зона, уводили воров, если сучья — сук. Так, например, в БерЛАГе на Колыме «честняки» отбывали наказание на территории северного управления, суки — западного. А вскоре подоспела «бериевская» амнистия 1953 года. Она не облегчила участи «политических», но зато позволила очистить лагеря от внушительной массы вошедших в кровавый вкус уголовников. И сучья война стала понемногу сходить на нет.
Трудно сказать, кто вышел из нее победителем. Споры на эту тему продолжаются до сих пор. Нам же представляется весьма разумной точка зрения исследователя Александра Сидорова. По его мнению, сучья война укрепила изнутри, «сплотила уголовный мир», подтолкнув его к серьезным реформам. Вследствие чего в недалеком будущем наша страна «получила изощренное, искусно организованное и мощное преступное сообщество».
Автор текста: Игорь Шушарин
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приобретайте архивные номера «Тайного советника» —https://history1.ru/archive
Не забывайте делиться материалами в соцсетях, если они вам понравились :)